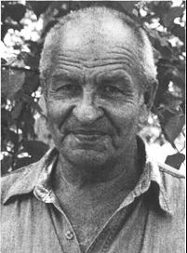Автор выражает огромную благодарность всем кто оказывал моральную и материальную помощь в выпуске сборника рассказов и стихотворений о великом северном народе – эвенках.
Я родился в Оренбургской области в 1947 году. Здесь пробежало мое детство. Юность и школьные годы прошли в Узбекистане, там я окончил среднюю школу. Служил на Тихоокеанском флоте.Большую часть из прожитых лет обитал в п. Бомнаке и прилегающей к нему тайге, где дружил с эвенками, замечательным народом, преподавшим мне прелесть и обаяние общения с окружающим миром Природы.Благодарностью и любовью к ним написаны мои зарисовки. Верю, что для кого-то они будут полезны и интересны.
22 мая 2011 года.
ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Я родился и живу, а это значит, что к моему родословному дереву жизни добавилось еще одно "годовое" колечко. Точка отсчета этого дерева уходит в такую глубь веков, что мне даже трудно представить то начальное время. Дерево разрасталось кольцами-жизнями, делаясь все ветвистей и кряжистей. Каждый предок вносил свою лепту. Одни кольца мощнее и шире с интересным узором, другие слабые и еле различимые. Каждый внес в это дерево свой потенциал, свою душу и разум, свои дела и поступки. Я наполнен ими и несу их запас, постоянно его используя. Это громадная чаша знания и умения. Я тоже черчу свое "колечко" и передаю это дерево жизни своим детям. Мои дела и поступки влияют на рост этого дерева и его состояние. Благие дела укрепляют его, грехи же мои вносят в него червоточины и гниль. Благодать наша и ответственность лежат в бесконечном использовании бесконечного опыта наших прародителей, в накоплении собственного опыта и духовной зоркости во благо следующих за нами. Как прошлое живет в нас, так наше настоящее живет в будущем. Как бы научиться постоянно, помнить об этом, чтобы родовое дерево жизни росло и радовало собой, а не стало срубленным пнем или сгнившей колодой?
ВНУК УЛУКИТКАНА
Юра Трифонов - внук Улукиткана. К таежным премудростям его приучал дед, так как его отец, Иван Семенович, умер, когда Юра был совсем маленьким. Несколько небольших, но довольно любопытных историй рассказал мне Юра о своем знаменитом деде. Может, вам тоже будет интересно...
МАЛЕНЬКАЯ СПИЧКА - МНОГО ОГНЯ
Сидим в палатке, стемнело. Дед достал свечку, коробок спичек, чиркнул. Огонек со спички перескочил на свечку, взялся ровным светом. В палатке стало светлей и уютней. Дед вертит в руках коробок спичек и говорит: "Смотри, Юра, какой маленький коробок, а как много огня держит".
ТАМ КТО-НИБУДЬ СИДИТ?
Кочуем с дедом в верховье Сяна. Я еду на нартах впереди, он на своих - сзади. Вижу, сидит глухарь. Далековато, но добыть хочется. Достал "тозовку" и начал стрелять. Несколько раз стрельнул, попасть не могу. Даже не вижу, куда пули летят. Глухарь вытянул шею и сидит, похожий на графин. Тут я стал палить! То ниже возьму, то выше, то правее, то левее. Бесполезно, попасть не могу. А глухарь хоть бы улетел, сидит - не дрогнет. Слышу, дед идет ко мне. Подошел и спрашивает: "Юра! Там кто-нибудь сидит?" Мне стало стыдно. Я знал, как дед бережет патроны. Сколько дед помнил себя, он помнил и рассказывал, что весной приезжали купцы-якуты и привозили продукты, оружие, порох, дробь, пули. Обменивали все это на пушнину. До следующей весны приходилось к припасам относиться бережно. Белок на дереве гоняли так, чтобы сидела она напротив ствола и, стрельнув в нее, пулька должна была застрять в стволе. Дерево валили и пульку вырубали, чтобы зарядить еще раз. Много было весной и осенью на Сянских озерах уток. Делали скрадок в таком месте, чтобы при стрельбе дробь долетала до противоположного берега. Выбирали там кочку размерами покрупнее и на ее фоне стреляли по проплывающим уткам. Когда сезон утиной охоты заканчивался, кочку срубали, клали на оленью шкуру и разбивали, добывая застрявшие в этой ловушке дробинки. К глухарю дед всегда подкрадывался так, чтобы больше одного заряда на него не тратить. Давно нет деда, но до сих пор, когда я стреляю глухаря, слышу его слова: "Юра, там кто-нибудь сидит?"
ОГОНЬ В ЖЕЛЕЗНОМ ЯЩИКЕ
Улукиткан помнил и рассказывал, как появилась в тайге первая палаточная жестяная печь. Тогда по тайге прошел слух, что люди научились держать огонь в железном ящике и что нет теперь в чуме дыма. Эвенки издалека ездили смотреть на это чудо. Со временем печь прочно вошла в быт таежников и до сих пор служит им.
ПИЛОТ НОЧЬЮ НЕ ВИДИТ
Зимой вечера длинные. Сидим с дедом, чиним сбрую, лямки, узды, подпруги. Где-то высоко в темноте слышно, как летит самолет. Улукиткан спрашивает: "Юра, как он ночью летит? Ничего не видно". Я стал объяснять ему про навигацию, компас, приборы. Дед удивленно покачал головой и говорит: "Все равно он не видит, куда летит".
ПРОСТО ЛЮБОВЬ
"Как-то простыл я сильно, и меня положили в больницу", - начал Юра свой рассказ о деде. Улукиткан в тот вечер приехал из тайги, и ему об этом сказали. "Утром я проснулся рано, часов в шесть. Слышу, стукнула дверь, потом приближающиеся по коридору шаги и характерное покашливание моего деда. Эвенки, особенно таежники, часто так делают, чтобы не напугать другого человека и как бы подать сигнал о своем приближении, они покашливают. Слышу, вышла медсестра и спрашивает: "Что вы, дедушка, хотите?". "Юра жить будет?", - как-то робко спросил Улукиткан. - "Да, все нормально уже. Будет ваш Юра жить. Будет", - ответила она. - "Ну, тогда я пойду", - сказал дед, и шаги его удалились, и снова стукнула входная дверь. Такого чувства тепла и беспокойства обо мне я больше в жизни никогда не испытывал. Оно до сих пор живет во мне", -закончил Юра эту маленькую историю.
СОХАТОВАТЬ!
"Юра! Завтра поедем сохатовать, я проследил, где зверь днюет", - сказал Улукиткан. С вечера мы приготовили все необходимое: лапчатые унты, лыжи, подшитые камусом, оленьи дошки. Проверили оружие. Утром выехали на нартах. К нартам деда была привязана его собака Патет. Эта собака была им особо научена. Она молча, по запаху, выводила охотника к добыче. Дед рассчитал направление ветра, чтоб мы оказались с подветренной стороны. Не доезжая, оставили оленей с нартами и встали на лыжи. Подшитые камусом лыжи и меховая амуниция позволяли продвигаться бесшумно и незаметно. Через какое-то время Патет забеспокоился, натянул поводок и уверенно стал тянуть за собой деда. Улукиткан обернулся и подал мне сигнал: снимаем лыжи. Дед двигался медленно, поднимал ногу и ставил ее в новое место, стараясь, чтобы не было никакого шума. Он оборачивался и показывал мне: "Тихо... Тихо..." Я замирал то в неудобной позе, то с поднятой ногой. Мне это не очень нравилось, но я терпел. По поведению собаки и деда я чувствовал, что зверь где-то рядом. Время напряглось и тянулось медленно, в такт нашему ходу. Но вот Улукиткан остановился и показал мне в направлении скопления мелкого березнячка. Сохатый лежал метрах в семидесяти от нас и был хорошо виден. Вот он поворачивает большие уши, прислушивается. Дед очень любил такую охоту, она требовала особого мастерства и навыка. Еще дед говорил, что раньше некоторые охотники могли подкрасться к отдыхающему сохатому вплотную и потрогать его. Делали они это на спор, чтоб показать свое умение и ловкость.
НЕХИТРОЕ ДЕЛО
Приехав из Ташкента в Бомнак, в первый год попал я в стадо "Ток". Командовал здесь Юра Трифонов. Было ему 29 лет, но по таежному опыту он уже умудренный человек. Была у него собака Тайга. Кобель был знаменитый тем, что не боялся медведей, Такие собаки среди пастухов очень ценятся, они помогают охранять стадо. Медведи, при случае, всегда готовы поживиться олениной, приходится с ними воевать. У меня же был в то время шестимесячный щенок Дозор. Он еще нигде не отличился, только гонял куликов по краю озера. Сидя в палатке за ужином, я спросил Юру: "Как мне научить моего Дозора, чтобы он шел на медведя?". "Дело, Коля, нехитрое, главное надо, чтобы ты шел на медведя сам".
ЛУЧА БЕГИН ЛУЧА
Стадо Ток. Олени, пастухи-эвенки, бригадир Юра Трифонов - внук знаменитого Улукиткана. И я среди них. О чем еще можно мечтать романтику, мальчишкой начитавшемуся увлекательных книг Фенимора Купера, Григория Федосеева? Ночью мне еще снятся сны, что я снова в Ташкенте. Просыпаюсь, осознаю свое истинное положение и радуюсь: "Слава Богу, я в тайге". Как-то утром Юра сказал: "Сегодня едем искать отбившихся оленей". - "А маут брать?" - спросил я. "Смотри, как хочешь", -ответил он. Едем всей бригадой. Юра впереди прокладывает тропу, и я уже знаю, что у него правый олень - знаменитый в стаде передовой Эрнай. Он даже по наледям ведет караван прямо. А вот и олени - голов тридцать. Пастухи достали мауты*, стали ловить оленей. А я свой не взял. Ловля оленей - занятие увлекательное и азартное, каждый старается показать свою ловкость - один я без дела. Когда поймали оленей, я подошел к Юре и обиженно сказал: "Я же спрашивал тебя, брать маут или нет". - "Коля, солдат оружие должен иметь всегда под рукой. Маут - оружие пастуха. Будет маут - будут олени. Что будет с солдатом, если он не возьмет оружие в бой?" - с хитроватой улыбкой ответил Юра. Он обернулся к пастухам, и сказал: "Ехор-мохор! Луча бегин луча". Все засмеялись. "Говори по-русски, я же не понимаю", - сказал я ему. - "Я про это и говорю, что русский есть русский". А "Ехор-мохор", как я узнал позже, было придуманное им самим выражение, и вставлял он его, когда был особо чем-то недоволен. Позже, мы с улыбкой вспоминали этот эпизод, а если у меня что-то не получалось, то уже я в свое оправдание говорил: "Лучабегин луча".
*Маут - аркан, которым ловят оленей. Сделан из кожи дикого оленя.
МУДРЫЙ ОБЫЧАЙ
Первый эвенк, у которого я жил и с которым охотился, был Николай Егорович Романов. За глаза все его звали Никулас. Охотник он был хороший, и без добычи мы домой не возвращались. Привозили на нартах и мясо. По моим понятиям, городского жителя, видевшего мясо только в магазинах, туша сохатого — это целое богатство. И ее должно хватить на полгода, не меньше. Но у нас она разошлась очень быстро. По приезду в поселок к нам потянулись гости. Ксения Александровна, жена Николая Егоровича, варила мясо в эти дни помногу и всех угощала. Еще я заметил, что она никого из гостей не отпускала с пустыми руками. Выйдет в кладовку, принесет кусок мяса, завернет его в газетку, и гостья уходит с подарком. Когда кончилось свое мясо, мы без него не остались. Теперь Ксеня приносила его от других охотников, вернувшихся с промысла. Позже я узнал, что этот обычай существовал у эвенков всегда. Соблюдается ли он сейчас? Очень редко. Мир эвенков, как и весь окружающий мир, сильно изменился, и приоритеты отданы иным ценностям.
СОВЕТ ШАМАНА
Гену Яковлева я знал, еще когда он учился в школе. Потом вместе работали в стаде. Это был человек, излучающий доброту и любовь. Эти качества он проявлял всегда, ко всем и ко всему, поэтому у него никогда ни с кем не было недоразумений. Также он был очень трудолюбив, всегда чем-нибудь занят. Когда-то в детстве, вспоминал он, мне довелось быть на рыбалке. Отец с матерью и братьями городили реку Купури. Был там с нами и последний эвенкийский шаман Илья Иванович. Я был очень суетной, все время за что-нибудь хватался, старался помочь старшим. Вечером валился с ног от усталости. Как-то старик подозвал меня и говорит: "Гена! Будь немного ленивым, проживешь долго, как я". А было Илье Ивановичу около ста лет, и он еще кочевал с нами. С тех пор я помню его совет, а выполнять его не всегда получается.
НА СОБОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Летом пошел я в лесоустроительную экспедицию рубить просеки. Каюрить к нам приехал Олег Сахаров. На оленях он развозил продукты и собирал отчеты с токсаторских участков. Добродушный, всегда веселый, любил поговорить. "Был я пацаном, учился в шестом классе", - вспоминал он. - На зимние каникулы взял меня отец с собой в тайгу. Я уже умел ловить петлями зайцев, стрелял рябчиков из "тозовки". - "Поедем завтра на охоту вместе, я тебя буду учить следить соболя", - сказал отец. - "Нет, - ответил я ему. Дай мне твоего Серого, он тебе соболей загоняет и мне загонит". Хотелось самому отличиться. Утром собрали оленей, я поймал седового, привязал к нему Серого и верхом поехал искать соболиные следы, которые я уже мог отличить от заячьих. Следы оказались недалеко. Слез с седового, прошел по ним и отпустил Серого. Он понюхал один, второй и равнодушно побежал в сторону. Я окликнул его и снова, взяв на поводок, стал идти по следу "сюкая" Серого. Проведя его метров двадцать по следу, еще раз отпустил. Серый даже нюхать следы не стал. Я его поймал еще раз, накричал и потащил по следу. Отпустил - не идет. Сгоряча я схватил ветку и пару раз его успех хлестнуть. Серый взвизгнул и быстро скрылся с глаз.
Со слезами на глазах я подъезжал к палатке. Серый лежал на своей подстилке из веток и на меня не смотрел. "Иди, попей чайку", - выглянул из палатки отец. - "Ты мне дал плохую собаку. Она годится только на отделку", - сердито сказал я ему. Отец ничего не ответил, он не любил спорить попусту. Попили чай. "Поеду, посмотрю твою охоту", - сказал отец. Вернулся он скоро. Я был все еще обижен и молчал. "Олег, Серого не ругай и не бей. Будет он тебе загонять соболей, но по старому следу, да еще в обратную сторону, ни одна собака соболя не догонит". На следующий день мы ехали на охоту втроем. Отец учил меня различать следы. Когда был найден свежий след, Серый стал рваться с поводка, повизгивая от нетерпения, а когда его отпустили, он умчался по следу, взвихривая снег. В тот день мы привезли в палатку трех соболей.
УНТЫ
"Алгаминское" стадо оленей находится в верховье река Алгама, ей оно и обязано своим названием. Конец октября, пастухи во главе с бригадиром Климом Романовым стоят в это время на Чакатае, на своей главной базе. По первым порошам соболюют и бьют при случае забредших в стадо диких согжоев (оленей). Эти дикие животные (курба) спариваются с домашними, что нежелательно, так как нарушается генофонд. Получившиеся от любви оленята (баютканы) своенравны, а если сказать проще - дикошары. Есть у эвенков любители заниматься с такими гибридами, что требует особой сноровки и терпения. Иногда из них получаются очень хорошие рабочие олени, но это - исключение.
Как-то под вечер залаяли собаки. Вышли пастухи из зимовья, смотрят - едут люди. Едут верхом со связками оленей. Кто такие? Оказалось свои, каюры из экспедиции. Работали с геологами до самого снега. Добираются в Бомнак, заехали в гости. Морозы застали их без зимней обуви, в резиновых сапогах ехать было невозможно. Они нашли интересный выход, надели на ноги "пробные" мешки. Эти мешки геологи используют для сбора образцов камней. Сшиты они из прочного брезента. Вместо стелек использовали то же средство, что используют в унтах - траву хаикта - прочную, теплую, водостойкую. Из рукавов фуфаек сшили чулки. Делается это просто. Пришил к проему подошву, выкроенную из этого же рукава, и чулок готов! Одеваешь его на ногу, наматываешь портянку, засовываешь в мешок и по щиколотке перевязываешь тесемками. Брюки одеваешь сверху. Тепло, легко, и добраться до Бомнака вполне хватило.
БАБУШКА СЮДО
Эво Сюдо - бабушка Сюдо, так ее звали все в Бомнаке. Она жила самостоятельно. Когда к ней не зайди, она всегда чем-то занята. Шьет унты, тапочки, рукавицы, чинит таежникам зимнюю одежду. На печке - горячий чай, на столе - хлеб, печенье, конфеты. Она любила угощать. Таежная необходимость (когда с мороза пастухи и охотники присаживались к печке, и она наливала им горячий чай, чтобы они согрелись не только снаружи, но и изнутри) была перенесена сюда. Было ей лет за семьдесят, но еще три года назад она кочевала в стаде. Брал ее с собой Юра Трифонов. Большую часть времени они следили за оленями, но осенью, по первому снегу, белковали. Белки было много. Эво Сюдо управлялась со своими обязанностями в палатке, ловила своего седового и тоже ехала белковать. Собака находила зверька, а стрелять бабушка умела хорошо. Еще она искала и запоминала беличьи гнезда "чапы". За день находила их до десятка. Юра рассказывал, что она с охоты возвращалась всегда позже, чем он. "Я уже чай попью пару раз и ужин сварю, а ее все нет", - вспоминал он. Появлялась уже в сумерках. Объясняла, что проверяла беличьи гнезда, которые нашла днем. "Белки, как и мы, возвращаются домой ночевать. Собираются по две-три в гнездо, так им теплее и веселее", - говорила она. Из этих гнезд бабушка Сюдо добывала белок больше, чем я за день. Длинными вечерами пили с ней чай, кушали, разговаривали. Я включал "Спидолу". Ее Эво Сюдо терпеть не могла - нарушался ее спокойный ритм жизни. По этому поводу я сочинил даже частушку:
Хороши вечера на Току,
Если жарится мясо в соку.
Я люблю под "Спидолу" дремать.
Ее бабка готова сломать.
Давно нет Эво Сюдо, охотится она в иных мирах, но чувство тепла и благодарности живет в сердцах тех, кто ее помнит. Спасибо тебе, Эво Сюдо.
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Спускался я на плоту по Зее с Джугармы. На Карчилаке эвенки вели в это время учет оленей. Они с этим заканчивали и уходили на Купуринскую Лучу. Проплывая мимо, я заночевал у них, а утром поплыли в Бомнак вдвоем. Илья Яковлев - пастух Лучинского стада - отправлялся со мной в отпуск. Плыли мы с ним три дня, время для разговоров было, и рассказал он мне поучительный случай из своей таежной практики. Может, кому-нибудь пригодится. Осенью, в начале ноября, уже под вечер возвращался я в палатку. Спустился на речку и пошел по льду. До палатки оставалось километра три, когда меня угораздило провалиться и намокнуть по самую грудь. Мороз к вечеру крепчал, и одежда через километр стала как панцирь, сковав мои движения. К тому же намокли спички, и я не мог спастись костром. Вспомнил, что старики учили в таких случаях лезть опять в воду, чтобы оттаять. Ледяная вода жалила холодом, хотелось быстрее выскочить, но приходилось терпеть. Чтобы добраться до палатки, еще дважды пришлось проделывать эти водные процедуры. Хорошо, что с детства каждый таежник приучен, уходя на охоту, оставлять в палатке мелко наколотые дрова, наструганные стружки (куагамда) и коробок спичек. Трудов стоило зажечь спичку. Пальцы не держали их. Когда начинал чиркать, они или ломались, или падали. В конце концов живительный огонек вспыхнул, стружки подхватили его и через несколько минут потрескивание дров радостной музыкой наполнило душу. Теперь я знал, что буду еще жить.
"УДАЧНОЙ ОХОТЫ"
Осенью стояли мы обычно на реке Улягире. Здесь - наша зимняя база. В середине октября выпал снег и пошел по нему гулять "ходовой" соболь. Следы везде, даже к загородке кораля натоптали соболя свои тропки. Пастухи охотились с собаками, принося каждый по несколько соболей. Лида Тимофеева, жена Володи Романова, попросила его сделать ловушку, чтобы и она могла участвовать в этом азартном мероприятии. Володя поставил ловушку недалеко от зимовья. Лида каждый день ходила ее проверять, но ничего не ловилось. Да и не могло ловиться, так как рядом пастухи уже выловили соболей. Чтобы как-то порадовать жену, Володя в ее ловушку подсовывал соболей, которых добывал сам. Лида приносила соболей и очень радовалась. Как-то Волокан засунул в ее ловушку двух соболей сразу, головами в разные стороны. И на этот раз, она не догадалась, что это шутка. Мы, конечно, посмеивались между собой, но для нее это осталось тайной, а вернее, "удачной охотой".
ПСИХОТРЕНИНГ
Как-то зимой ездил я на охоту с Колесовыми. Санкандя (дядя Саша) - высокий, седой старик. Всегда спокойный, доброжелательный. Балба (тетя Варя), его жена, - веселая, любившая пошутить. Одну из ее шуток я помню и сейчас: "Мы - люди-эвенки, мы - не медведи, хоти живем в тайге", - любила повторять она. Гоша - их сын и мой друг. На охоту дядя Саша с Гошей ездили вместе. Дядя Саша был опытным охотником, но зрение у него стало совсем слабым. Гоша же только начинал охотиться, набирался опыта и был "глазами" отца. Гоша показывал отцу соболиный след, а тот тыявуном* трогал его, и по твердости определял его свежесть. Когда след становился мягким и рассыпался на тыявуне, отпускали собаку, которая соболя загоняла. Стрелял Гоша, дядя Саша на дереве соболя не видел. Вечером дядя Саша отогревал у печки прозябшие за день руки, колени и спину. "Молодого мороз гонит, а старого гробит", -говорил он с виноватой улыбкой. Тетя Варя хлопотала по хозяйству, варила супы, каши, пекла вкусные эвенкийские лепешки на соде (эведышки*). Отвечала она также за аптечку и считала себя специалистом по таблеткам. Утром перед завтраком и вечером перед ужином повторялась одна и та же процедура. Она доставала аптечку, раскрывала ее и начинала перебирать упаковки таблеток, спрашивая при этом: "Сан-кандя, таблетки кушать будем?". - "Будем", - отвечал дед. -"Норсульфазол будем?". - "Будем". - "Аспирин будем?". - "Будем". Набиралось несколько видов таблеток, и они их гуртом отправляли в рот. Мне казалось, после выпитых таблеток они как-то приободрялись. Происходил своеобразный психотренинг. Пасли они оленей и жили в тайге, пока совсем не ослабли, а дядя Саша к тому же почти перестал видеть. Когда они перебрались в Бомнак, я часто заходил к ним, они для меня были родными людьми.
*Тыявун - посох. Делается обычно из тальника и служит для того, чтоб удобно было садиться в седло и подгонять оленя.
*Эведышки - эвенкийские - Эвэды..
ЛУЧА
Илья Иванович прожил долгую жизнь, он прожил больше ста лет. Когда он был мальчиком, первый раз увидел лучу (русского). Луча ему не понравился. Он был высокий, у него были светлые волосы, глаза голубые, как озерки, и большой нос. Он был некрасивый - эвенки такими не бывают. Он говорил, а понять его было нельзя. Когда он заметил меня, то полез в карман и достал белый камушек. "Сахар", - сказал он и протянул его мне. Я напугался и спрятал руки за спину. "Сахар", - еще раз повторил он. Мне стало страшно. "Что хочет от меня этот человек с большим носом, похожий на сову?" Отец обнял меня за плечи и, подталкивая ласково к незнакомцу, сказал: "Возьми, Ильякан, этот сахар и положи в рот, он сладкий как морошка". Сахар оказался даже слаще. Когда вечером легли спать, я вспомнил, что на речке есть такие же камушки. Они снились мне всю ночь. Проснувшись, я не стал даже пить чай, а бегом спустился к речке. Бродил по косе, находил белые камушки, клал в рот, но они были несладкие и не таяли во рту. Луча жил у нас несколько дней. Все его звали Инженер. Отец говорил, что он ищет тоже камушки, только желтые. Когда он ушел, то озеро Оконон, на котором его встретили, мы стали называть Инженер, а одну из речек, впадающих в Зею, Луча.
С БОЛЬЮ И УКОРОМ
Я - из рода эвенков. Тайга - до сих пор мой дом. Много веков назад мои предки, приручив оленя, научились кочевать быстро и широко, был бы ягель оленям да нам охотничьи места. Иногда мы кочуем, чтобы посмотреть новые земли. Это до сих пор у нас в крови, нам всегда хочется заглянуть чуть дальше: вон за ту сопку, за тот кривун, за тот перевал. В городах люди ходят на выставки и в музеи, в кино и на спектакли, чтобы посмотреть картины жизни, а мы постоянно любуемся красотой природы и ее жизнью. Восходы и закаты радуют нас своим естественным многоцветьем, каждый ключик поет нам свою песню. Бесконечное разнообразие красок, звуков, мир растений и животных безо лжи и фальши наложили на нас эти качества. Мы также жили естественной жизнью, пасли оленей, растили детей, любили, грустили и радовались. Обычаи, верования и наша таежная культура вырабатывались тысячелетиями и бессчетным количеством поколений, привносивших свои знания, навыки, опыт. Но пришли люди и сказали нам, что мы живем неправильно и начали нас учить и заставлять жить по-другому. Они сами никогда не жили в тайге с оленями и не знали, чтобы с ними жить, надо иметь особый навык. Но они думали, что лучше знают всё. Они заставили нас поселиться в поселках. С той поры мы стали жить "искусственной" жизнью. Места выпаса оленей и охотпромысла стали далекими, а рядом стояли магазины с алкоголем. Детей забрали в интернаты на гособеспечение, там они были обуты, одеты и накормлены. С нас сняли первейшую обязанность, которая заставляет человека быть ответственным. Женщины перебрались в поселок, и тайга для них стала темным лесом, в который идти не хотелось. Мужчины остались в тайге с оленями. Семейные и родовые связи и обязанности нарушились. Охотники и пастухи, приезжая к новогодним праздникам и весной, к Дню оленевода, ходили из дома в дом и пили, пили, пили. От алкоголя сгорали, замерзали, совершали преступления. Творилось пьяное безумие. Моих сверстников остались единицы, даже пальцев на одной руке больше. Многие из ушедших моложе меня, а некоторые годятся мне в дети. Заросли в тайге тропы, о былом многолюдий напоминают еще многочисленные старые дюкча (таборы), куреканы (загоны для оленей), лабазы. Они, опустевшие, смотрят на нас с болью, жалостью и укором, смотрят глазами тех людей, которых мы знали, заходили к ним в гос,ти в палатки, жили с ними одной жизнью. Алкоголь подвел людей к краю пропасти, и к оставшимся стало приходить осознание беды. Радует то, что постепенно кто-то уходит с этой тропы и появляется надежда, что наши дети выберут снова естественный путь, путь с природой, путь по которому они будут уверенно идти в будущее.
ТРИ ЛОВУШКИ - ОДИН СОБОЛЬ
Тетя Катя Трифонова ездила с Кириллом Сафроновым, своим мужем, летом каюрить в экспедицию, а зимой охотиться. Как-то они заехали к нам в стадо, на Току, где я впервые их увидел и познакомился. Тетю Катю у нас заинтересовали ящики из-под продуктов. Она стала их разбирать и дощечки связывать в пучки, а гвоздики выпрямляла и собирала в мешочек. Я спросил: "Для чего они вам?". - "Ловушки из них сделаю. Я ящики всегда забираю на стоянках геологов, геодезистов, лесоустроителей. Вечером сделаю ловушку, днем - поставлю. Три ловушки - один соболь", -объяснила она. После этой встречи я тоже последовал ее примеру и стал ловить ловушками и верховыми кулемками, всегда помня, тети Катины слова: "Три ловушки - один соболь". Они подстегивали меня и придавали уверенность в успехе.
ЗИМОЙ ТРАВЫ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Мы сели семьей обедать, когда к нам в гости пришли дядя Гриша Трифонов с женой, тетей Полей, и сынишкой Павликом. Они - пастухи с Брянты, в Бомнак приезжают один-два раза в год. Павлику лет пять, красивый, краснощекий. По-русски не говорит, а что-то постоянно лопочет по-эвенкийски. Видно, что ему все в поселке интересно. Позвали их к столу. Павлик что-то спросил у матери, и все расхохотались. Я ничего не понял. Видя мое недоумение, тетя Поля объяснила: "Павлик про тушеную капусту с картошкой думает, что это трава. Спрашивает, где ее зимой нарвали?"
КАЖДЫЙ ОХОТНИК – ПОЭТ
Пришел в верхнее зимовье на Сугжаре. Два дня назад через него выходил с Биранджала Виктор, мой брат. Оставил в моей тетрадке запись об этом. А от перенесенного в этот день впечатления оставил стих.
Навалило снега по самые уши.
Натоптался вволю, мама твою в душу.
Мокрый и усталый, дотянул к избушке,
Отогрелся чаем из большущей кружки.
Ну и что с того, что соболь нё попался?
Я и так доволен, что сюда добрался.
Заварил в кастрюле кашу я крутую
И лежу на нарах, да и в ус не дую.
Полистал тетрадку, почитал заметки...
Захотелось тоже в ней оставить метки.
Темнота сгустилась, дело ближе к ночи,
Печь пыхтит тихонько, радио бормочет.
Чайник замурлыкал. Ну, чайку заварим,
Выпьем пару кружек и опять на нары.
Хорошо с устатку так вот поваляться,
Но пора и баиньки, будем расслабляться.
НЕ ДОВЕРЯТЬ НЕТ ПРИЧИН
Егор Родионов до конца своих дней жил в тайге. Старая рваная палатка его стояла на Сугжаре. Старик скучал по людям, но в поселок не шел - не любил беспокойную поселковую жизнь. Мое зимовье было выше, и когда я до него добирался, то останавливался у деда попить чайку. Носил я летом с собой карабин "Барс" - легкий, удобный, надежный - он придавал в тайге уверенности. Дед его разглядывал и хвалил. Сам он носил ружье-одностволку. Как-то я его спросил: "Как раньше эвенки справлялись с медведями? Стрельнешь с кремневки, а перезарядить не успеешь". - "Кремневка - это еще хорошо", - ответил он. - Я помню случай, когда два охотника поднимали из берлоги медведя, и, кроме топоров и ножей, у них ничего не было. Договорились, что если не смогут зарубить медведя, когда тот из берлоги будет вылезать, то один из них подставит медведю спину, а другой его топором добьет". Все это я воспринимал с сомнениями, но Егор говорил об этом серьезно. Не доверять ему у меня не было причины.
МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ
Солнце, растопив снег над берлогой, тяжелыми каплями разбудило окончательно ее обитателя. Берлога становилась для медведя неуютной. Тепло и яркий свет тянули его наружу. Выбравшись, он потянулся, покатился с боку на бок, разминая косточки, и не спеша побрел вниз по склону сопки. Добравшись до реки, направился по ее течению. На речке, по берегам и косам, лежали разбросанные ледоходом глыбы льда. Медведь брел между ними. Иногда ему выпадала удача: он находил снулую или убитую при ледоходе рыбину, тут же съедал ее и двигался дальше. В устье небольшого ключика медведь наткнулся на охотничью избушку. Остановился, стал принюхиваться, стараясь уловить запах съестного. Долго ходил вокруг, не решаясь подойти. Хозяева ее, отохотившись зиму, уже с месяц, как ушли в поселок. Не обнаружив опасности, осмелел медведь. Выдавив окно, влез в зимовье и попал прямо к столу, на котором хозяева оставили керосиновую лампу, приемник, банки с солью, сахаром, перцем, лавровым листом. Медведь съел сахар. Дальше попалась банка с перцем, которая, конечно же, перевернулась, перец рассыпался. Доверяя больше всего обонянию, нюхнул мишка содержимое банки. Что тут началось... Перец попал на лапы, в нос, глаза. Медведь отфыркивался, тряс головой. Ничто не помогало. Ужас обуял зверя. Он стремглав выскочил из окна и, подкидывая свой отощавший за зиму зад, пустился в чащу. Через некоторое время к избушке приплыли на лодке охотники, которые легко разобрались в произошедшей здесь с медведем "трагедией". Долго смеялись они над незадачливым грабителем и были очень рады тому, что перец спас избушку и продукты от разорения.
ЗАЧЕМ ОЛЕНЕНКУ РОГА
В верховьях Тока зимой нередко выпадает большой снег. Оленям, чтобы добраться до корма, приходится копать настоящие траншеи. Особенно тяжело оленятам и самкам. Случается, в оленьем стаде возникают драки из-за расчищенных копанин. И что удивительно - оленята-сеголетки не уступают в этих битвах взрослым быкам. А происходит это так: бык своими широкими копытами, как лопатой, раскидывает снег до ягеля. И только примется он за еду, как тут же появляется олененок и острыми, как шило, рожками начинает отгонять быка. Тому нечем ответить. Дело в том, что в первый зимний месяц сразу после гона бык сбрасывает свои огромные и крепкие рога. Еще недавно грозный для всего стада, этот величавый красавец становится беззащитным перед малышом. Остается одно: снова разгребать снег, добираться до ягеля, хотя покормиться на новом месте опять-таки, как видите, не всегда удается. Вот такую маленькую, но очень важную хитрость природа придумала для слабых в борьбе за жизнь.
ГОРНОСТАИ
Первый раз я увидел его у избушки в конце ноября, когда выпал глубокий снег. Правда, увидел не самого зверька, а его глаза. Две черные бусинки несколько раз вынырнули из-за снежного бугорочка и исчезли. Я стоял, не шевелясь, хотел узнать, что же за гость пожаловал к моему жилищу? Осторожно повернул голову впр… Продолжение »